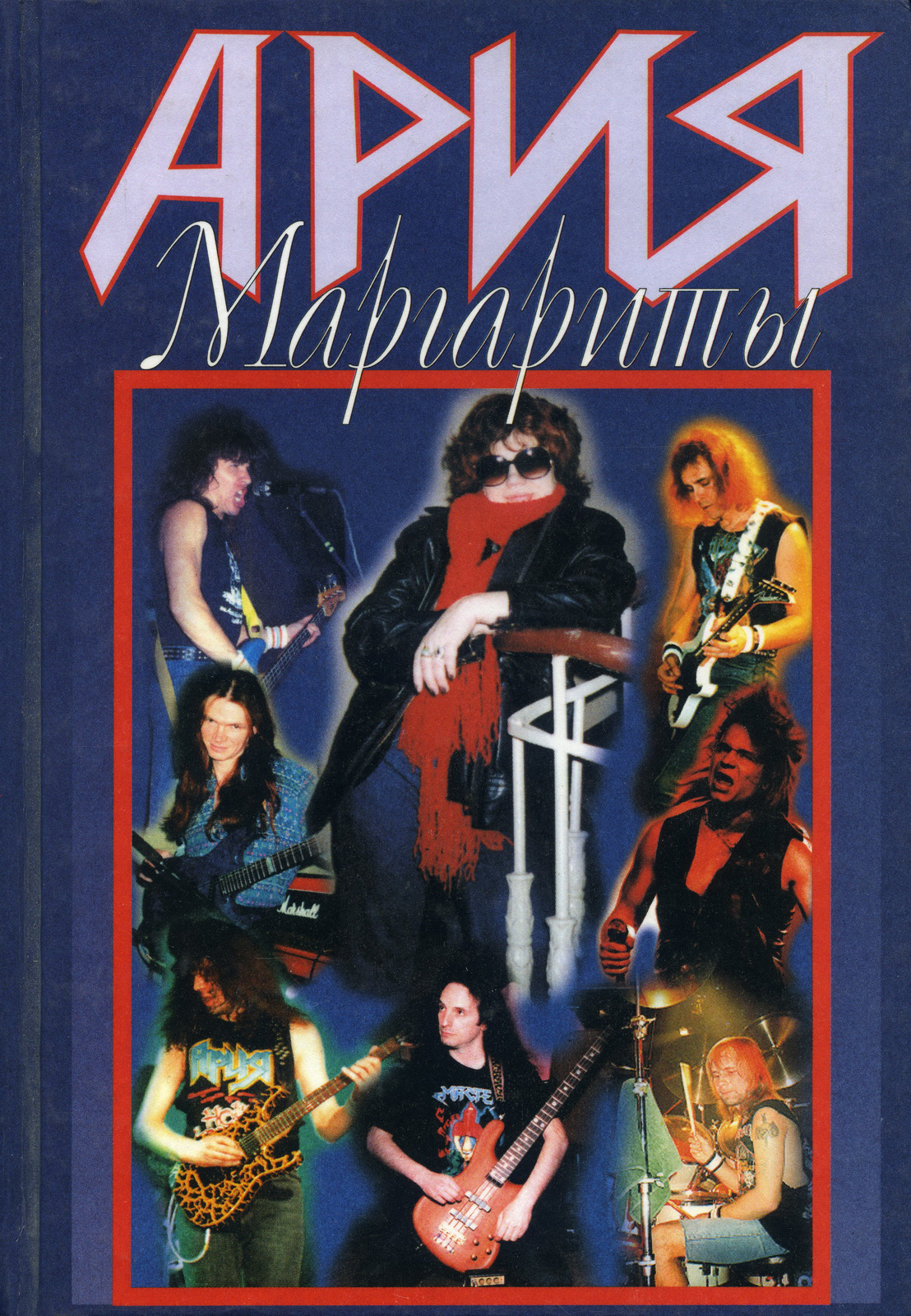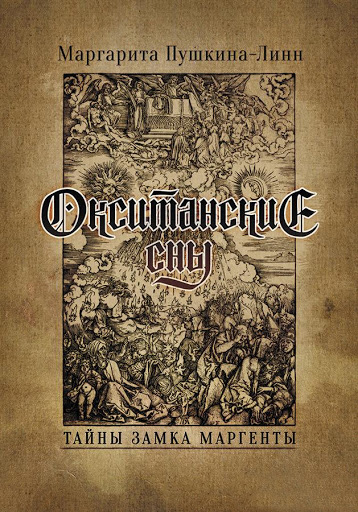Главная - Zabriski Rider - Статьи из № 16 - Это просто такие штаны (часть 2)
Это просто такие штаны (часть 2)
Это просто такие штаны (часть 2)
Когда некоторое время спустя они жили коммуной все с тем же Москалевым и какой-то герлой (сейчас уже не помню) на флэту у Эстета (тоже, к несчастью, теперь покойного), Москалев однажды устроил разборняк. “Ты почему не работаешь? — наехал он на Фашиста. — Я не работаю, потому что я идейный вождь, Эстет — потому что это его флэт, такая-то (уж не помню кто) вообще герла, а ты что?..” “Я болею, — испуганно заюлил Фашист, — я могу справку принести...” “На кой мне твоя справка, — строго обозначил Москалев, — или вали отсюда или иди работать, нечего у других на шее сидеть.” И Фашист пошел, только не могу утверждать наверное — работать или с флэта...
На самом деле Москалев вовсе не был такой сволочью. Просто его иногда здорово клинило. В других случаях он мог принести много пользы (и приносил). Он говорил много стоящего и часто открывал глаза на то, что потом всю жизнь казалось очевидным. От него первого я услышала, что книги приходят к человеку сами — когда нужно и какие нужно. Свою мысль он проиллюстрировал историей с “Уолденом” — который самопроизвольно исчезал и появлялся у него в разные моменты жизни. Заодно он пунктирно поведал и “основную мысль этого опуса”. Попав через некоторое время в родные пенаты, я решила не упускать случая и лишний раз показать предкам, какими бессмысленными вещами они занимают свои души, в то время как самое главное проходит мимо них.
— У вас нет самых лучших и самых необходимых книг, — безапелляционно изрекла я, с презрением окидывая взглядом вскормившие мой дух стеллажи.
— Это каких же, например? — в меру иронично поинтересовалась матушка.
Уверенная в грядущем триумфе, я бросила ей в лицо как перчатку:
— Вот ты наверняка не знаешь такой книги — “Уолден, или Жизнь в лесу”!..
— Это почему же не знаю? — радостно возмутилась она. — Она много лет стоит у меня над столом.
Матушка сделала ровно два шага, достала с полки злополучного Торо и очень спокойно протянула мне. Это было сильное испытание для моей гордыни. Но поделом. О посрамлении я не жалею. Напрасно только она не врезала мне по-дзеновски прямо по башке. Ей-Богу, стоило...
ОТСТУПЛЕНИЕ ОБ ИСТИНЕ
Кажется, где-то у Чехова (проверять даже не подумаю) один удивительно проницательный персонаж берется рассуждать об “истине” и “правде”. Представьте себе, предлагает он, что кто-то врывается с криком: “господа, я узнал правду!”. Все немедленно бросаются упрашивать его поделиться открытием... А вот почти идентичный возглас: “Я знаю истину!” — не вызывает ничего, кроме скуки и равнодушия. Отсюда следует неизбежный вывод: между правдой и истиной нет ничего общего, это столь же разные субстанции, как, допустим, пиво и молоко.
Является ли правдой то, что я здесь болтаю? И тем паче — является ли это истиной? Зная, что мир есть лишь наше представление о нем, трудно надеяться, что два разных наблюдателя увидят совершенно одинаковую картину (даже при условии, что смотрят в одну сторону). Еще труднее ожидать, что они одинаково ее проинтерпретируют. Рядом со мной уже немало лет хиляет такой наблюдатель, который к тому же гораздо раньше меня начал делиться с окружающими своим виденьем событий. Можно было бы, конечно, оставить интерпретацию на его совести, но то ли жаба душит, то ли блазнит иллюзия, что без какого-то мазка картинка здорово проиграет в цвете...
И насколько далеко мы оба убрели от истины (которая, между тем, никому не нужна)?.. Бог весть. Могу поклясться лишь в том, что осознанно фальсифицировать — ни перфект, ни континиус — не стараюсь. Разве привру маленько для красного словца.
Не стоит, однако, забывать, что все критяне лжецы — хотя сами первые с готовностью в этом признаются.
МОЙ ПЕРВЫЙ МЕНТ
За всеми этими веселыми делами я как-то незаметно поступила в Универ. О, теперь я была совсем другая: на экзамены являлась в драных джинсах и умопомрачительных хламидах, с классической холщовой сумой через плечо, заполняя анкету, нагло наврала, что не являюсь членом комсомола (“Вы член партии?” — почтительно поинтересовалась безумица из приемной комиссии), и вообще почувствовала себя совершенно незамороченной по поводу высшего образования. Универ тут же перепугался, что останется в стороне от моего curriculum vitae, и широко раскрыл передо мной свои двери.
Недавно я стала ломать голову — как получилось, что в свое первое медовое лето мы с Фаготом никуда не рванули, не вышли на трассу, не прокатились стопом по всей широка страна моя родная — и в конце концов догадалась, что виной всему были-таки проклятые экзамены, которые какой-то недоделанный книжный червяк догадался устраивать в августе. Кто его знает, как повернулось бы наше бытие, заложи мы в его фундамент столь серьезную штуку, как совместный дорожный опыт — иногда там переживаешь такие минуты, за которые готов простить потом целые годы...
Но этого, увы, не случилось. Так что осень у нас началась как бы сразу — без радости, щедро отмерянной Отцом нашим Небесным всем добрым людям. Впрочем, на пару дней еще весной мы съездили в Питер. Правда, на поезде.
В Питере, как водится, было холодно и сыро. Почему-то (по неопытности, разумеется) мы не заморочились запастись хоть какими-нибудь вписками, а сколько ни хиляли из конца в конец Невского, так и не встретили никого из братьев по разуму. С горя я позвонила домой с переговорного пункта и узнала адрес двоюродной питерской тетки, телефона узнать не удалось — мама, всегда позиционировавшая себя стойким хранителем родственных связей, так и не смогла его найти. Мы двинулись наугад на какую-то мерзкую окраину, но никого не застали — даже проболтавшись в подъезде полтора часа. Покидая поле проигранного сражения, Фагот в отместку по-партизански взорвал мосты: открыл мусоропровод и долго даблился в шахту. Пока длился перформанс, я обмирала от ужаса, что явятся жильцы и сдадут нас ментам.
Ночевать мы решили на вокзале. Но обнаружили, что идея провести тут ночь пришла не одним нам — народу было как грязи. После долгих и бесплодных усилий приткнуться куда-нибудь и принять относительно горизонтальную позу — пусть не двоим одновременно, но хотя бы по очереди, мы нашли какой-то темный подоконник на лестнице, ведущей в мрачную полутьму. Сильно припахивало сортиром и было дико холодно. Спать мы, конечно, не спали, сидели как птички на жердочке, ворочались, пытаясь согреться друг об друга, и о чем-то тихонько и лениво перехихикивались...
И тут появился мент. Первый мент в моей жизни. На полу рядом с нами храпел пьяный бомж. Вокзал был полон стремнейшего пипла, на фоне которого мы — по крайней мере, стираные и чистые — выглядели до противного цивильно. Но мент прифакался именно к нам. Видимо, у него было хорошее классовое чутье. Засада же была в том, что мы (уже по полной дури) не взяли с собой не только паспортов, но и вообще ни единого документа, ни студенческого, ничего. Такова была мера нашего тогдашнего легкомыслия.
Мусор вальяжно цедил вопросы и явно никуда не торопился. Фагот погнал, что мы студенты и приехали изучать достопримечательности. Почему не взяли документы? Да как-то не пришло в голову (и это была правда!). Когда собираемся в Москву? Завтра, после того, как осмотрим Петергоф. Почему не остановились в гостинице? Из двух вариантов ответа — нету мест и нету денег — надо было с первой попытки выбрать правильный, вторая ошибка (после уже допущенной с паспортами) могла обойтись слишком дорого. “А вы что, сами не знаете? — пошел в наступление Фагот. — Заранее не забронировал, и гуляй — мест нет”. “Что же вы не забронировали?” — язвительно поинтересовался мент. “Да нам и в голову не приходило, — изрек Фагот с интонацией бесподобного столичного превосходства, — что где-нибудь кроме Москвы могут быть проблемы с гостиницами...”
Разумеется, это была ложь. И ложь наглейшая. Но она-то и произвела впечатление. Мент бессознательно учуял, что с ним говорит барин, а поскольку в душе он был, соответственно, холоп, то среагировал на сигнал по инстинкту. Дальше он только кружил по собственным следам, и чем больше кружил, тем яснее становилось, что винтить он нас не будет. Я даже попыталась в конце концов прокатить перед ним телеги более масштабного этического характера, за что получила потом от Фагота по мозгам с указанием никогда не лезть, куда не просят. Вне всяких сомнений, он был прав, но я еще не знала ментов и полагала, что с ними тоже можно разговаривать — как с другими людьми. Со временем мне пришлось убедиться, что надеяться хоть на крохи понимания можно лишь с братьями. Остальные — даже не менты — все равно никогда толком ничего не понимают.
Вообще у всех этих субъектов в форме, хоть полисов, хоть гебешников, хоть погранцов, какая-то своя удивительная психология — простому смертному недоступная. Они могут начать валить палатку, невзирая на то, что внутри спит ребенок, могут засадить в КПЗ, если предложишь обращаться к себе на “вы” — и могут внести тебя на руках, точно невесту, в автобус (как это было со мной, когда громили стихийную выставку у Чистых прудов), если откажешься двигаться в плен своими ногами.
Как-то раз после одного знатного винта на Ленгорах им. Джона Леннона, когда нас автобусами увозили прямо в университетскую ментовку (интересно, существует ли она до сих пор?), вызывают меня прямо с пары в учебную часть. Что за притча? Спрашиваю у кураторши, в чем дело, она в ответ делает страшные глаза и указывает в угол, где кантуются два пыльно-серых персонажа. Персонажи подхватывают под локотки и предлагают найти уединенное местечко, где мы могли бы без помех перекинуться парой теплых.
Ладно. С огромным трудом находим пустую аудиторию. И начинается.
— Постойте, — перебиваю я первый же вопрос — уверенно и нагло. Я теперь тертый калач, и голыми руками меня не возьмешь. — Это у нас что — допрос? А где протокол? И вообще я кто — обвиняемый или свидетель? — Книжку Альберта с гениальным эпиграфом: “Откуда у вас Евангелие? — От Матфея” мы к тому времени знали почти наизусть.
— Какой допрос! — поют мои молодцы. — Просто побеседуем с вами по-дружески.
Ни хрена себе дружба!
— Вы хотите получить высшее образование? — берут они с места в карьер. — Потому что положение-то ваше очень серьезно. У нас есть сведения, что вы участвуете в антисоветских мероприятиях — вы, наверно, понимаете, о чем речь? — вообще, мы имеем представление в ваших настроениях, так что если мы с вами сейчас не найдем общего языка, с университетом придется расстаться.
Ага, мне кажется, я сейчас испугаюсь!
Докладываю, что не настолько ценю образование, чтобы совершать ради него аморальные поступки.
— А вы что, — удивляются они (и откуда только брали таких кретинов?), — считаете сотрудничество с органами аморальным?
— А меня бабушка еще с детства учила: доносчику — первый кнут. Да и что я могу вам сообщить — какие фасоны юбок пользуются наибольшим успехом у студенток филфака?
— Зря иронизируете, — обижаются пыльно-серые. — Еще чуть-чуть, и вы можете пойти по статье “измена родине”. А это уже очень серьезно.
— Это за что же? — меня охватывает приступ отчаянного веселья. — Поясните, пожалуйста, каким таким образом я могу ей изменить? Вот, честное слово, ну никак не могу сама придумать!
— Напрасно вы так себя ведете, — продолжают угрожать они. — Всегда начинается с малого, а потом — таких как вы — находят зарубежные корреспонденты. И вы, даже сами того не подозревая, можете выдать государственные тайны...
— Какие тайны! — Нет, совок — это предельная степень маразма! — Вы в своем уме? Ну какие тайны я могу выдать — даже если бы очень хотела? Парадигмы латинских склонений? Систему поэтических жанров? Готский алфавит? Вы, когда идете вербовать, хоть готовьтесь заранее — вы же непрофессионально пугаете!
И тут происходит совсем странное. Мальчики (почти мои ровесники, лет по двадцать пять, не больше) окончательно тушуются и идут на попятный. Признаются, что немного погорячились. И что на самом деле хотят просто поговорить. Что их очень волнуют настроения в среде молодежи, которая причисляет себя к хиппи. Что пришли посоветоваться со мной — можно ли найти каких-нибудь героев из советской истории или из советского настоящего, кто мог бы послужить альтернативой западным идолам типа Леннона.
— Мы знаем, — говорят обормоты, — что в душе вы все советские люди...
Я открываю рот, чтобы опровергнуть это гнусное оскорбление, но мне не дают и слова сказать.
— ...Что вас просто сбивают с толку. Вы все любите музыку — мы это прекрасно знаем (и знаем, какую конкретно музыку вы слушаете). Вы даже не представляете себе размаха идеологической борьбы, которая происходит в современном мире. И сколько служб работают на то, чтобы под видом музыки протащить в нашу страну чуждую идеологию.
— Скажите, — вдруг страстно вскрикивает один и суется мне своей рожей почти в самое лицо, так что я брезгливо отшатываюсь. — Скажите, кто мог бы стать нашим советским Джоном Ленноном? Кто? Павка Корчагин? Нет? Назовите! Помогите нам спасти нашу молодежь!..
Вау! Я — им — помочь — спасти? Мы говорим уже три часа. Я выдохлась. У меня раскалывается голова. Я больше не могу видеть эти тусклые фейсы и слушать клинический бред. Я собираю все свои силы и выплевываю:
— Никто. Нет такого человека. Забудьте об этом. Хотите — ищите сами. Только у вас все равно ничего не получится. И — хватит. Я больше беседовать с вами не буду. Надумаете продолжать — присылайте повестку. Только не забудьте указать дело, по которому я прохожу. А теперь — до свидания.
— До свидания, — оторопело откликаются чуваки. Возможно, это была их первая самостоятельная работа. И они с треском ее провалили.
КОМОМ, БЛИН...
Народ в Универе оказался на редкость гнилой, совершенно неспособный ни к какому полету. Девицы интересовались юбочками и противоположным полом, в самых крайних случаях — дистрибуцией фонем и вторым передвижением согласных. Противоположный пол был представлен таким ничтожеством, которое и заметить-то было западло.
Впрочем, было одно местечко под названием Дыра — под лестницей на первом этаже поблизости от дамского сортира. Там собиралось избранное общество фрондерствующих и богемствующих лоботрясов и изредка попадались личности подходящей ориентации. Собственно, в Дыре и проводили в основном учебное время такие балбесы, как я. Это был своего рода клуб, где можно было поделиться наболевшим, стрельнуть при благоприятном стечении обстоятельств рубль и получить на ночь какие-нибудь “Другие берега”, в библиотеке, естественно, отсутствующие. Словом:
В те дни, когда в стенах филфака
Я мирно дурака валял,
Читал охотно Керуака,
А на Корнеля забивал...
Как бы то ни было, Фагот постепенно знакомил меня со своей “архитектурной” тусовкой, и я томилась тоскливой завистью к полнокровной жизни, бурлящей вокруг Чашки — вечно сухого фонтана во дворе МАРХИ, — сравнивая с жалкими пузырями, еле волновавшими поверхность мутной лужицы под лестницей 1-го ГУМа.
Архитектурный пипл был невероятно эффектен прежде всего в массе. Стоило только в хорошую погоду свернуть с улицы Жданова (вот какие названия измысливал совок для самых клевых уголков вселенной) в известные ворота — и ты попадал в какую-то “Амерису”, на худой конец, Париж 68-го года разлива: лонговые хаера всех мастей и оттенков, летящие, висящие, ухоженные и болтающиеся как попало, прямые и вьющиеся, на любой вкус — о, какие они все были красавцы!
Народ веселился, прикалывал, гнал телеги, ни слова в простоте... Тебя сразу прохватывало космическим сквозняком, энергии бурлили так, что паруса буквально рвались на мачтах. Даже самое пустое дело, вроде открывания пивной бутылки зубами, превращалось в хэппенинг и служило прославлению идеи. Благая весть донесена была сюда громогласно и недвусмысленно — и упала на благодатную почву. Экзотические цветы дружно принялись и буйно радовались новой жизни.
Впрочем, и по отдельности они были не хуже. Их было много, они чувствовали себя хозяевами положения, и потому, в отличие от хилой и малочисленной “дырной” поросли, унылой и апатичной, были веселы, открыты и исполнены позитивной силы, даже когда вынужденно выступали соло. К несчастью, Фагот не слишком стремился к слиянию с ними, и потому мои контакты с этой достойной стаей были весьма ограничены. Вспоминая о том времени, Вася как-то сказал, что Фагот, мол, меня “скрывал”. “Но почему? — изумилась я. — Неужели мое общество казалось ему настолько позорным?” “Не знаю, — хитро усмехнулся Вася. — Может быть, он опасался совсем другого...”
Предположение, конечно, лестное. Однако, увы, мало правдоподобное. Во-первых, в мархишной среде было столько красавиц и умниц, что рядом с ними я и дышать-то не смела в полную силу, а во-вторых, по природе своей я верна как Пенелопа, не стоит только оставлять меня без призора — ни на десять лет, ни на один час. Не находя взглядом привычный объект, я могу резко переключить внимание...
А Фагот как раз принялся все чаще совершать эту ошибку. И добро бы он проводил время среди этого дивного цветника. Нет же! Его тянуло к каким-то гнилым персонажам, вроде полного кретина Иваницкого, который, кажется, считал себя невероятно умным на том только основании, что остальных раз и навсегда положил держать за дураков. Гнусный был тип. Фагот же, как назло, прямо влюбился в него, дня не мог без него прожить, водил его к нам в гости, где этот прохиндей нес напыщенную чепуху и все время доказывал, что женщины — невероятные дуры, неспособные мыслить в принципе, не то, что уж хоть что-нибудь самостоятельное создать.
Главное, что сам он точно создать ничего не мог. Он и внешне был ужасно противный: отец у него был индус, и больше всего он был похож на героя-любовника из индийских фильмов — склонный к рыхлой полноте пухлощекий смуглый болван, воображающий себя неотразимым красавцем. Признаться, я получила колоссальное удовольствие, когда он воспылал любовью к одной моей довольно цивильной подружке, которая питала к нему отвращение до рвотных позывов — приятно было наблюдать, как этот самодовольный червяк извивается во прахе перед представительницей того пола, который он так долго мешал с грязью.
Мы с Фаготом стали все чаще ругаться. Характер у меня был скверный (и остается таким, увы, по сей день. Я, конечно, немного потеряла в пассионарности, но и сейчас могу врезать так, что мало не покажется. Ничего хорошего, между прочим). Но тогда я вообще не умела ничего прощать — просто не понимала, зачем это нужно. Если прибавить к этому нездоровый максимализм и унаследованную от предков железобетонную прямолинейность, станет ясно, что за нашу совместную жизнь не стоило давать и половинки дохлой мухи.
Ко всем прочим радостям добрые люди наконец-то раскрыли глаза нашей хозяйке на то, что она берет с нас слишком ничтожные деньги за квартиру у черта на куличиках, куда не доехать никаким транспортом, без телефона и с неработающим электричеством, и она, картинно поохав об испорченных обоях, огорошила нас известием, что вышибает нас с флэта.
Бедному собраться только подпоясаться, но куда?.. И лисы, как известно, имеют норы, а вот сынам человеческим иной раз прямо некуда голову приклонить. Лихорадочные зигзаги на квартирном толчке в Банном первым неводом принесли хитроватую старушку, которая вызвалась отвезти нас в квартиру ее “знакомой”, которую та, якобы, готова была сдать. Следуя за этой коварной Бабой-Ягой, мы в конце концов прибыли на какие-то выселки, где в однокомнатной квартире нас поджидала жирная развалина с клюкой, с людоедской улыбочкой предложившая жить вместе с ней, “немножко” за ней ухаживать и платить ей за такое счастье ежемесячно 70 рублей. “А в случае чего, — прибавила она, истолковав овладевшее нами немое оцепенение как знак молчаливого согласия, — в случае чего, — добавила она многозначительно, — я и в кухне могу посидеть”. Дивясь про себя на безумие людей, которых общество считало нормальными, мы опрометью бросились вон из берлоги старой ведьмы.
Закинув еще несколько неводов, пришедших, как и положено, с одною тиной морскою и вконец ошалев от бездомности, мы наконец оторвали клок объявления, обещавшего комнату “бездетной семье”. Местечко было аховое, но больше ждать мы уже не могли. Единственным плюсом этой кельи для евнухов было местоположение — вернуться на Пушкинскую улицу, в самое сердце Москвы, было и приятно и лестно. Вся полнота счастья открылась нам постепенно.
Оказалось, что в качестве бонуса к комнате прилагаются две старухи. Одна жила слева от нас, другая — справа. Левая была тиха и доброжелательна, поскольку давно погрузилась в теплые волны сенильного маразма. Она любила рассекать по коридору в ватных панталонах на резинках с заправленной майкой, скорее серого, чем белого цвета. Особый колорит прикиду придавали расплывчатые коричневатые пятна в самых щекотливых местах. Она почти не доставляла нам хлопот — за одним исключением: стриптизерша страдала клептоманией. Стоило оставить хоть что-нибудь на кухонном столике или хуже того — уходя, не запереть комнату, и пиши пропало. Поскольку того, что называется “домашняя утварь”, у нас было впритык, любой набег пробивал в борту нашего утлого суденышка ощутимую брешь. Когда размеры потерь достигали критической массы, мы как тюремщики шли к ней со шмоном. Она никогда ничего сама не отдавала, приходилось рыться в старушечьих сундуках, набитых гнилым тряпьем и прочей трухлявой мерзостью, чтобы извлечь на свет прикопанные в самом низу чайную ложку, мыльницу или стакан. Все время, пока шли розыски, стриптизерша тихо плакала, сморкаясь в ветошь и причитая, как это умеют только полоумные старухи: “это ложечка моя, моя это ложечка, она у меня с 36-го года, мне ее мамочка подарила...”
Правая старуха была существом совсем иной породы. Маленькая, высохшая как мумия, с лицом как печеное яблоко и огромным сизоватым пузырем на шее, она была самое шум и ярость. Ничего во всей вселенной не то что благословить — хотя бы не проклинать — было выше ее сил. Ей не нравилось решительно все — квартира, в которую ее переселили за сносом того дома, где она жила прежде, полоумная соседка, не нравились мы, наши гости, наша музыка, погода за окном, вкус картошки, которую она себе ежедневно варила (почему-то в маленькой алюминиевой миске)...
Через две ночи на третью (точно по графику ночного сторожа) она принималась орать в голос с какими-то жуткими нечленораздельными завываниями, и кому-то из нас приходилось бежать к автомату (телефона в этой Богом забытой дыре, естественно, не было), чтобы вызвать ей скорую, а потом караулить эту неспешную скорую на улице, потому что никакой врач, никакой мент и даже агент ЦРУ не нашел бы самостоятельно входа в наш приватный ад — такой запутанный лабиринт проходных дворов и подворотен предшествовал ему, и это не говоря еще о нумерации квартир в вороньей слободке: у нас в подъезде, например, номера распределялись так: 54 — 56 — 27 — 27А — 27Б — 28 — 29 — 6 — 83 — 83А... и так далее, без всякой логической последовательности. Но никакими уговорами врачам не удавалось заманить ее в больницу. Они вмазывали ей обезболивающее, она затихала, а через двое суток история начиналась заново...
Если левую старуху хоть изредка посещали женоподобные тени родственников, то у правой за все время нашего пребывания побывал лишь один гость — какой-то мэн в шляпе, который принес ей пачку пельменей. После его ухода она так долго и громко разорялась над этой пачкой: дескать, как же она, больной человек, будет их есть, что из чистого человеколюбия мы ее от этих пельменей избавили, вернув сумму, которую ей пришлось за них заплатить. Почему именно пельмени так ее возмутили, осталось не проясненным — ведь трескала же она, больной человек, в день по сосиске, это уж я знаю наверняка, потому что я же ей их и покупала. Старухи-то, что одна, что другая, пределов квартиры никогда не покидали, форточек, Боже упаси, не открывали, не мылись, ни белье, ни верхнее платье никогда не меняли, так что аромат у нас стоял — закачаешься.
Однажды Фагот поманил меня в прихожую.
— Смотри, как они пишут! — с восхищением сказал он. В углу, дополнительно затененном шкафом — лампочек, мощностью более 25 ватт, старухи категорически не признавали и истошно скандалили, стоило вкрутить хотя бы на 40, поэтому в местах общего пользования стояла полумгла, едва нарушаемая тусклым мерцанием жалкой лампадки, свисающей на голом шнуре с четырехметрового потолка, — так вот, в сумрачном углу к обоям был приколот листок с огромными корявыми буквами. Надпись гласила: “МОЗГАС 04 МИЛИЦЫЯ 02 СКОРЫЯ 03 ПОЖАРНЫЯ 01”. Внизу другим — обычным — почерком был приписан телефон некой Люды, которой следовало звонить в случае близкой или наступившей смерти клептоманки. Куда звонить в аналогичной ситуации насчет другой старухи — в “пожарныю” или “Мозгас”, — предстояло решать самостоятельно, во всяком случае, не оставалось сомнений, что ни одно физическое лицо этой информацией не интересовалось.
До сих пор жалею, что не притырила эту достойную музейных стен скрижаль. Впрочем, еще Макьявелли советовал — бойся первых порывов души, ибо они самые благородные...
ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ
С этого флэта нас выперли весной — опять же спохватившись, что содрали слишком дешево. Мы и эти-то деньги вырубали с величайшим трудом — и то благодаря родительской щедрости. Собственно наших личных доходов была одна фаготова стипендия: “главный ВУЗ страны”, как гордо именовался Универ, отличался редкой скупостью и стипендию давал только отморозкам, которые, не жалея задниц, высиживали сессию без единой тройки.
Но вокруг было слишком интересно, чтобы запариваться на двадцати там с чем-то склонениях, которые многомудрые ученые обнаружили в бедном моем наречии, или врубаться в тонкости тюркских языков. Одна из моих бесконечных троек случилась как раз из-за этих, Богом проклятых языков, которые, как я позже — в смысле после экзамена — узнала из учебника, куда заглянула из чистого любопытства, поскольку обретенная информация ничего уже изменить не могла, вообще не поддаются классификации. Хорошенькое дело! Иди свисти в кулак — из-за того, что тебе предложили сходу упорядочить систему, в принципе не поддающуюся упорядочению. Пойди туда, не знаю куда... Однако что-то же я должна была наболтать — посетив от силы две лекции и в последний миг успев пролистать начальные страницы бессмертного труда господина Реформатского. Определенно, во мне погиб выдающийся лингвист.
А латынь! Faceo, feci, factum, facere — вот единственный достойный ответ басурманской тарабарщине (воспроизвожу по памяти. Интересно, наврала или нет? Нет! Почти нет! В одном только месте — facio, конечно же, facio, императив — fac, ну как же, как же! Остальное правильно, а ведь прошло уже, ни хрена себе, 25 лет... Всего-навсего глагол делать, между прочим).
С флэта, нас, значит выперли, но вокруг цвела весна, и не за горами было лето. Наконец-то в путь?.. Как бы не так. В разгар веселого месяца мая я загремела в больницу.
Какая же это пытка — сидеть взаперти, почти в тюрьме, когда за окном набирает обороты долгожданный карнавал и куролесят мои почти друзья — называть их просто друзьями я еще не осмеливаюсь даже в мыслях (типично пионерский комплекс). Мое узилище кажется особенно тошнотным после трехдневной тусовки в Пущино, где совок каким-то чудом проморгал джазовый фестиваль, и мархишный пипл, подхватив до кучи и меня, рванулся праздновать — не то, чтобы уж очень родственную себе, но, по крайней мере, чуждую совку неформальную музыку.
В первый раз я оказалась по-настоящему в своей среде. То есть вокруг, конечно, рассекала пропитанная гниловатым духом коллаборационизма седеющая джазовая богема, на ходу братавшаяся с передовой советской наукой, и наша сплоченная стайка гордо держалась особняком. Но стайка-то — вот она, а я в ней — молча, торжественно и восхищенно.
Впрочем, надо отдать должное чувакам: по городу советских физиков прошло почти настоящее карнавальное шествие — под звуки саксофонов и тарелок, весело наяривавших всякие “When the Saints Go Marching’ in”. А дело, между тем, происходило в самый разгар застоя, и даже Брежнев еще не собирался умирать...
Каким-то чудом нам удалось вписаться в гостиницу. Следуя строжайшим моральным императивам, администрация расселила нас строго по половому признаку: М — отдельно, Ж — отдельно. Пипл безуспешно пытался рокироваться иначе, поскольку все прибыли парочками.
На нескольких площадках городка, порой одновременно, шли концерты — причем не было не только афиш или расписания, но и билетов. С билетами ситуация сложилась просто кафкианская — в одни залы можно было заходить просто так, а в другие — только предъявив билеты, которые нигде и никем не продавались, не раздавались и вообще было неизвестно, как они выглядят. В один почти совершенно пустой зал мы проникли, воспользовавшись неохраняемым служебным входом — музыканты на сцене угрюмо лабали заумный и довольно занудный “cool”, и не понять было, отчего именно к ним публику столь педантично не допускали. Промаявшись с полчаса на жестких сиденьях, мы лишили эту обитель безысходной тоски своего бесценного общества.
В буфете Дома ученых, где герла на сцене с успехом имитировала хиты Фицджеральд, я с изумлением столкнулась нос к носу со своей кузиной. Оказалось, что их курс проходит здесь практику, ну и, раз уж такое дело, студенты вечерком подвалили поразвлечься. Я была знакома со многими ее однокурсниками, с ней мы вообще все детство были не разлей вода, но теперь я как-то особенно остро почувствовала, что мы совсем не подходящая друг другу компания. Мы как будто стали разноприродными субстанциями — вроде воды и масла, которые, слей их даже в одну бутылку, ни за что не могут смешаться, скользя по поверхности друг друга, обтекая чужеродные пузырьки... Мы обменялись какими-то словами — но слова ничего не значили, скорее, они были знаками того, что нам решительно нечего сказать друг другу. Решившись на последнюю попытку взаимопонимания и контакта — а, может, наоборот, чтобы убедиться в окончательной невозможности оного, я спросила: “Тебе нравятся мои друзья?” Сестрица равнодушно пожала плечами. Прежним отношениям пришел конец.
Стояла дивная майская теплынь, воздух пах пробуждением и жизнью. Мы забили на джазистов и предались естественному занятию хиппей всех времен и народов — бессмысленному валянию на лужайке. Враждебный мир, населенный привычно агрессивными и неврубными двуногими, вдруг взял — и послушно исчез. Вместо них нас окружила трава, где мирно суетилась мелкая живность, которой было совершенно безразлично, за каким рожном мы вырядились как шуты гороховые и вызывающе бездельничаем рядом с их деловым мирком. Приква плела венок, который потом подарила Фаготу. Надя, поймав волну, на которую была настроена вся природа северного полушария, принялась просвещать пипл на тему брачного поведения соловьев.
— Чувак свищет, — убежденно лечила она, — а клюшка строит гнездо. Летает туда-сюда, приносит веточки, ну, все, из чего они там прикалываются строить, а он только сидит рядом и заливается. Потом она яйца откладывает, а он все свистит. Потом сидит в гнезде, пока не вылупятся птенцы, а он все поет, так ничего и не делает...
— А яйца-то откуда? — бдительно уточнил Вася. — Откуда яйца, если он только свистел?
— Ну, значит, в антрактах он ее еще и трахает, — хмыкнул кто-то.
— То-то, — веско подытожил Вася. — А ты, небось, хотела, чтобы он еще и работал?
— А что же, — не сдавалась Надя, — ей, может, вломак одной с этим гнездом париться.
— Какие же вы, герлы, все-таки глупые, — продолжал пристебываться он. — Он же поет для нее, музыку ей обеспечивает... Это как если бы тебе, ну, Плант, например, пел. Подумаешь, гнездо... Гнездо каждый может построить, а ты попробуй спеть!.. (Однако довольно самокритичное признание — для архитектора-то!)
Тема представляла для меня не только умозрительный интерес. В самое ближайшее время мне предстояло всерьез задуматься о гнезде — а мой соловей не токмо не намеревался петь, но вместо того говорил мне всякие противные вещи: это-де никак не совпадает с его планами на жизнь. Я отказывалась понимать гнилые аргументы — если мы провозгласили себя нацией детей, да еще и цветов, то, по моему разумению, в собственных грядущих детях мы были обязаны приветствовать новых, равных нам (или даже лучших, чем мы) и заранее любимых братьев. На фоне этой глубоко идейной задачи меркли все неудобства, связанные с их появлением на свет (о которых я тогда, естественно, не имела ни малейшего понятия).
Именно из-за упорства в этом вопросе (врачи не велели мне иметь детей) я и загремела в больницу сразу после Пущина: вредители наехали на мозги — мол, без их бдительного надзора я враз врежу дубаря, и я доверчиво далась им в руки. Эти маньяки принялись тут же измываться над моим бренным телом и бессмертной душой всеми способами, которые только может измыслить извращенная фантазия. Заманив обещанием “полежать недельку”, они продержали меня почти месяц и уже вовсю точили ножи, что бы резать мне сердце, затрепыхавшее от возмущения при этом известии, но, по счастью, заявился Фагот и лениво обронил, что пипл навострил лыжи во Львов и он подрывается с ними.
Вынести такое я не смогла. В тот же день я поставила убийц в белых халатах перед выбором — или они отпускают меня добром, или я сейчас, сию же минуту, выброшусь из окна, за которым друзья уже паковали рюкзаки.
Убийцы опешили.
— Женщина! — наконец преодолела ступор заведующая. — Вы что! Вы понимаете, что мы спасаем ваше здоровье?
— Нет, — честно призналась я.
— Вы что, сумасшедшая? К нам люди... — ее снова заклинило, но она мужественно боролась с собой. — К нам люди рвутся! А вы! Женщина! Да вы понимаете, что оскорбляете всю советскую медицину! Вы еще к нам придете, а мы вас не примем. Не примем!!! Будете просить, плакать тут будете, а мы вам... Нет! НЕТ!!! Кто от нас вот так вот уходит, тот уже не возвращается. Мы просто ОТКАЖЕМСЯ вас лечить!!!
Бедная курица пришла в такое неистовство, что, казалось, готова убить меня прямо на месте — за то, что я не даю ей оторваться по полной в борьбе за мое здоровье. Но я точно знала, что не останусь в этой лавочке ни минуты — и не остановлюсь ни перед чем. Кажется, она это тоже поняла. Вдруг выдохнула, будто спустили воздушный шарик, обмякла и сказала — устало и равнодушно:
— Уходите.
ГОРОД ЛЬВОВ
Благодаря мне, мы опоздали на поезд — свободных дней было слишком мало, и тратить их на стоп никто не решился. Фагот, в приступе необъяснимого гуманизма, оставил меня дома, когда остальные ломанулись на вокзал за билетами — намереваясь позвонить и вызвать меня прямо к поезду. Но, как оказалось, позвонил слишком поздно — наша четверка выскочила на перрон, когда состав уже тронулся с места. Мужественные проводники, загораживая амбразуры собственными телами, готовы были умереть, но не впустить чужаков во вверенные им вагоны. Наш же, как назло, набирая ход, все более и более удалялся от нас. Как полоумные, мы бросились вдогонку.
Обнаружив недюжинный талант спринтера, Вася первым вцепился в поручень, намереваясь запрыгнуть и помочь следующему... Не тут-то было — проводник стал яростно сталкивать его с подножки, куда он успел ступить одной ногой, ничуть не заботясь, что человек, не сделавший ему никакого очевидного зла, может запросто угодить под колеса. Силы были явно неравны, и, посопротивлявшись, Вася отстал.
Он был страшно рассержен — на проводника, на Фагота, на меня, на весь мир.
— Нет, вы видели, видели, я уже догнал, а он прямо бьет по рукам!.. — мы с готовностью разделили его возмущение. Но досталось и нам. Вероятно, за дело. Васина барышня, Надя, надо отдать ей должное, совсем не напряглась — во всяком случае, никак этого не обнаруживала и даже стремилась его утихомирить. Впрочем, потеряв рубля по полтора на каждом сданном билете, мы тут же обрели право отправиться следующим рейсом. Вася тут же сменил свой холерический гнев на сангвиническую милость и вспоминал о происшедшем скорее со смехом, чем с прежним негодованием.
...Львов встретил нас дождем. По счастью, нами руководил опытный вожак, во-первых, лично знакомый с кое-какими представителями западно-украинской аристократии — в частности, Олисевичем, который, по давнему сиротству был единоличным владельцем какой-то окраинной халупы (на момент нашего прибытия он, кстати, в городе отсутствовал и явился уже под самый занавес, когда необходимость в пристанище отпала сама собой). И во-вторых, вооруженный знатным набором наколок, благодаря чему мы оказались пригреты сперва в чьей-то мастерской, где мы с Фаготом провели ночь на невероятных размеров доске, водруженной на козлы, а потом и вовсе разместились в какой-то левой квартире, полной молчаливых родственников, взиравших на нас с плохо скрытым недоумением.
Весь Львов обогревался никогда до той поры невиданными мной газовыми печками, которые можно было топить хоть круглый год, — и это здорово скрашивало сырые холодные ночи. В первый же найт Фагот смело поставил на печь промокшие кроссовки и утром обнаружил вместо пары всего полтора башмака — милостью Божией обгорела лишь задняя часть, и худо-бедно ходить было можно.
Львовская тусовка показалась мне (от неопытности) очень странной: совершенно неясно, что связывало этот разношерстный и, очевидно, не слишком-то хипповый пипл — в Москве такие люди едва ли нашли бы привлекательным общество друг друга. Дальнейшие полевые исследования показали, что это свойство всех провинциальных тусовок, где настоящего материала настолько мало, что волей-неволей приходится разбавлять его достаточно случайными персонажами, с которых спрашивается немного — просто доброжелательно (или хотя бы не в штыки) воспринимать вывихи ближнего.
Во Львове бытовала комичная привычка снабжать все мужские прозвания уменьшительно-ласкательным суффиксом. Наш приезд, видимо, был для местной публики серьезным событием, и потому мы ни шагу не ступили без почетного караула — все эволюции по городу совершались по строго намеченным и горячо обсуждаемым на местных советах маршрутам, которые с удивительным энтузиазмом прокладывали для нас Джоники и Жорики... Нарисовались и две скорее богемные, чем собственно волосатые герлушки — Лена и Марта, которые прикипели к нам настолько, что потом рванули за нами в Москву.
В какой-то день мы снова оказались на поляне (возможно, нас вели на городское кладбище, служившее обязательным местом паломничества), и кто-то предложил выложить из собственных тел пацифик. Сказано — сделано. Безвестный альтруист, пожертвовавший личной славой ради запечатления сакрального акта, щелкнул фотоаппаратом — и мгновение остановилось навсегда. И пока в подлунном мире жив будет хоть один подобный нам придурок, черно-белые эйдосы нашил тел так и будут парить в пространстве, объединенные кругом с куриной лапой посередине...
DON’T TUCH MY BAG IF YOU PLEASE, MISTER CUSTOM MAN...
В Москве назревал нарыв Олимпиады. Столько ментов сразу не было, кажется, никогда. Столица готовилась показать себя Западу — и тщательно выметала из избы сор. Мы были частью этого сора. И гордились этим.
Универ, на всех углах хвастающий былым свободомыслием и от этого еще более трусливый, на время Олимпиады просто закрылся — сессию мы сдали к концу апреля. Все пересдачи и практику отложили на август — проверенным кадрам с РКИ (русский как иностранный) и некоторым избранным с редкими языками в приказном порядке было предписано работать переводчиками (в их число попала даже часть “классиков”, и бедняги, худо-бедно владевшие лексиконом Гомера и Аристотеля, два месяца напускали на себя вид, будто лопочут по-новогречески).
Наш курс МАРХИ вообще весь год не учился — студентов раскидали по стройкам (странно, что ни один из объектов не рухнул). Когда — к лету — стройки закончились, их вообще по какой-то бредовой логике рассовали куда попало — Пуделя, например, отправили грузчиком в булочную. Он чрезвычайно смешно — в лицах — рассказывал, как народ, переминаясь с ноги на ногу, переживает в ожидании свежих батонов.
Мы повадились стайно рассекать по центру, тем более, что ряды все уплотнялись и уплотнялись. В один прекрасный денек в районе Этажерки (на тот момент еще не существующей) мы, наконец-то, нос к носу столкнулись — нет, даже не с полисом — с отрыжкой человечества в штатском, гордо именовавшей себя "Отрядом по борьбе с наркоманией и проституцией", то есть с приснопамятной Березой. Название отряд получил, как известно, потому, что располагался в подвалах, некогда принадлежавших "Березке" — магазину, где жлобье отоваривалось барахлом на валютные чеки. В амплуа "наркоманов" и "проституток" выступали, естественно, волосатые. В этом нетрудно углядеть логику: overground шустрил наверху, а underground, как ему и положено, огребал внизу.
Бойцы под водительством некоего Радугина тщательно оберегали легенду, будто они — просто комсомольцы. Поэтому форма была им противопоказана. Но поскольку к цивильным прикидам навыка у них тоже не было, рядились они до того чудно, что сразу бросались в глаза. Один из них напялил нежно-розовую рубашку и пикантные полосатые клеша, так что свободно мог сканать за гея, вышедшего на охоту за клиентом. Увы — клиентами оказались мы.
С чего началось винтилово, указать сложно — мы почему-то затормозились, и вдруг как из-под земли нарисовались служивые мальчики, слово за слово — и нас, точно маленькое стадо, погнали в стойло. Прикол был в том, что по им одним ведомым принципам, служители пеницитарной системы отделили овнов от козлищ и забрали с собой не всех, но лишь большую часть. Остальные поплелись вслед, борзо выкрикивая: "Смотрите! Смотрите! Людей арестовали только за то, что у них длинные волосы! Это нарушение Декларации прав человека!" Встречные косились и, от греха подальше, обходили странное шествие стороной. Удивительно, но нашу клаку, несмотря на все ее старания, так и не свинтили — одних повели внутрь, а у других перед носом захлопнули дверь.
Нас загнали в большую, почти пустую комнату, где сидели два незлобивых “сотрудника”, изнывавших от безделья. Наш привод внес в их безрадостное бденье долгожданное разнообразие.
— Ну чего вам просто так сидеть? — через некоторое время обратился один из них к нашей живописной группе, вольготно расположившейся на полу — сидений для нас предусмотрено не было. — Сдавали бы по десять копеек, а мы бы вам чай покупали, бублики — все равно же вы тут постоянно бываете…
Пипл отреагировал неоднозначно. Кто-то опрометчиво поддержал инициативу и уже затряс в воздухе мелочью, но более дальновидные поспешили поставить рационализатора на место.
— Ишь чего захотели, — раздались ехидные голоса. — Тоже мне кафе! Нет уж — вы нас силой сюда привели, вот сами чаем и поите! За свой счет!
Боец не обиделся.
— Как хотите, — добродушно пожал он плечами. — Мне-то что. Мы вам предлагаем, как лучше, но если вы сами отказываетесь…
— Еще не хватало, чтобы вы с нас деньги собирали! — возмущенно загалдела тусовка. — Арестованных во всем мире тюремщики кормят.
— Вы пока не арестованные, — все так же миролюбиво продолжал тот. — Вот когда мы вас арестуем, тогда у нас другой будет разговор.…
Тем временем явились новые бойцы — эти были серьезны и озабочены. Выкрикнули чью-то фамилию, и первая рыбка поплыла на правеж.
— Ну все, щас обыскивать будут, — предрек оракул.
— Лишь бы не хайрали, — встревожился пипл.
Подогнали еще парочку незнакомых волосатых. Сперва, как и положено в патерналистском социуме, из сетей выбирали мэнов. У меня поигрывало очко. Возвращавшиеся подтверждали — шмонают реально. Грузят обычными телегами, интересуются насчет работы/учебы, фотографируют — и вроде бы ничего больше. Ксивы были у всех, так что стрематься было нечего. Всем — кроме меня.
Еще по пути в Березу Фагот скинул мне в сумку маленький целлофановый сверточек. Вероятно, это было разумно. Во-первых, я все-таки была герлой, а на герлу обычно обращают меньше внимания. Во-вторых, у меня была суперская сумка — помимо простых карманов, в ней были еще два крошечных боковых, в общем-то не очень заметных. В целлофане лежал гашиш. Кропалек, размером с таблетку шипучего аспирина. Не много, конечно, но на пару лет, пожалуй, тянуло.
Наконец дернули и меня. Обычная байда — что да зачем. Поинтересовались, как мне понравится, если на меня придет телега в Универ. Я честно ответила, что меня это не беспокоит. Повели сниматься.
— Ты как обычно ходишь — в очках или без очков? — буднично спросил конвоир. Ну уж это была наглость!
— По-разному! — постаралась я съязвить как можно отчетливее. — Как захочется, так и хожу.
— Так, снимай в двух видах, — деловито распорядился этот идиот. — Пусть у нас будут все материалы….
И меня, даже не глянув в сумку, отпустили!
КУЧИНО
Нас обступили теплые июньские сумерки. Волна мощного объединяющего пафоса накрыла нас с такой силой, что расстаться мы уже не могли. Напряжение достигло критической точки, пробив хлипкую изоляцию между монадами, и мы осознали себя не подлежащей делению совокупностью. Ergo, возникла неотложная необходимость места, куда совокупности можно было бы приземлиться, поскольку — при всей нашей веселости и бессердечности (качеств, прописанных как необходимые в одном из наших бесчисленных евангелий) — толком летать мы еще не умели.
Где найти место для ночевки десятка оболтусов, если, по несчастью, ничьи родители не отбыли в отпуск? В городе таковых не сыщешь. Тем лучше! Старик Руссо звал нас к природе, последуем за Руссо, хотя, строго между нами, уж больно круто заморочился чувак...
Ладно. Фагот как бы невзначай вспомнил, что вообще-то у него есть дача. Наглухо! Он отправился за ключами, остальные рассыпались на местности, улаживая, по возможности, насущные дела, типа запастись теплыми вещами и маломальским пропитанием или же средствами для грядущей добычи оного.
Наша электричка отправилась уже в темноте — увозя несколько расширенный состав, поскольку за пару часов стая успела обрасти новыми членами. Откуда-то нарисовались те самые львовские герлицы, дополненные коллекционным экземпляром с роскошной гривой. Экземпляр носил скромное имя Петров, впоследствии отлившееся в законченную форму Петров-Ханкин (что, учитывая его пристрастия, было, видимо, неизбежно, — упокой, Господи, душу его).
Дружественная (тогда) Литва прислала своих делегатов — Миндаугаса и Гирму (последний, по слухам, ныне обретается в Америке). Они были нордически невозмутимы и говорили с неподражаемым акцентом, когда паузы занимают время, равное (если не больше), чем собственно речь. В довершение прочих достоинств Миндаугас был твердым вегетарианцем — кто-то из побывавших в Прибалтике принес на хвосте весть, что на родине он обзавелся сковородкой с деревянной ручкой, где выжег слово “вегетарианка” (по-литовски, естественно), которую домашние не смели осквернять прикосновением трупов. Интересно, чем он обходился среди нашей безалаберности?
В Кучино мы проводили не слишком много времени — нас все время влекло (неясно, за каким хреном) в набитую полисом Москву, где пипл рассредотачивался по своим делам или, напротив, цепляя попадавшихся по пути фриков, бесцельно рассекал по центру, картинно приземляясь на бульварах и образуя живописные группы для обрамления памятников и фонтанов. И все время — за исключением краткого перерыва на сон — шел нескончаемый художественный треп, поддерживаемый дюжиной неугомонных тележников, достававших из закромов такой, казалось бы, еще короткой памяти россыпи пристебок и приколов.
ОТСТУПЛЕНИЕ О КОНТРКУЛЬТУРЕ
Любопытная штука: решительно все вокруг считали нас лентяями и дураками (и продолжают упорствовать в своем заблуждении). Между тем, нигде и никогда мне не приходилось встречать столь разносторонне осведомленных и интересующихся отвлеченными предметами людей. Это ложь, что контркультура направлена против культуры. Ни-ког-да! Лишь против гнилой, заформализованной, утратившей пассионарность (или сроду ее не имевшей) — худшей ее части. Контркультура вбирала в себя все лучшее, живое и креативное, ампутируя загноившийся слой. Контркультура очищала накопившуюся за века шелуху, чтобы добраться до ядра истины и схватить ее голыми руками — не боясь обжечься, потому что огонь не обжигает того, кто сам — горит.
Система знала все — какие книги читать (и имела эти книги, в редких изданиях и ксерокопиях с грифом “спецхран”, в оригиналах и даже в собственных переводах), какую музыку слушать, какие фильмы смотреть. Стоило кому-то раскопать что-то стоящее, как он становился неутомимым пропагандистом и распространителем обретенного знания. В тусовке шел непрерывный обмен — и не только “культурными артефактами”, не только “информацией”, но и суждениями о виденном, слышанном, читанном — и пережитом.
Мы ломились в забаррикадированные догмами и словоблудием двери, за которыми лежала истина — свежая, как в первый день творенья. Без всяких подсказок мы сумели догадаться, что каждый раз она рождается заново — в противном случае, она ровно ничего не стоит. И такая — заимствованная, не пережитая лично, не пылающая — она была нам не нужна. Продираясь к ней сквозь чужую фальшь и собственные иллюзии, мы учились подбирать слова и формулировать мысли (и кое-чего достигли). Мы много спорили и еще больше смеялись — и верили (на самом деле верили), что свобода и истина — практически синонимы. Я и сейчас думаю, что так оно и есть (хотя не так давно я сильно в этом сомневалась).
Старик Бердяев уверял, что свобода существует до Бога. Что-то не верится. Бог и есть — свобода. Равно как и любовь. И красота. И истина. Что, кажется, очевидно.
КУЧИНО
(продолжение)
Петров-Ханкин был существом экстремальным. Денег у нас, конечно, было мало, но на удовлетворение самых скромных нужд хватало. Его, однако, тянуло на подвиги.
Вначале, как всегда, было слово. Как-то мы сидели небольшой компанией на даче, и Петров прогнал телегу, что, мол, своровать что-нибудь у совка — милое дело. Народ ответил разнообразными суждениями, но к однозначному выводу не пришел. Петров загорелся подкрепить умозрения практикой.
И возглавил следующий поход за хавкой. Я и две львовские герлицы шуровали по полкам убогой сельской лавочки в поисках максимально дешевых продуктов, а Петров, возвышаясь среди нас мощной вертикалью, во весь голос угорал и вел себя, мягко говоря, неразумно — учитывая, что кассирша и так глядела на это чудо с хаером до задницы, буквально не отрывая глаз. Расплатившись за пачку макарон и “хлебобулочные изделия”, мы выплыли из магазина, и я с облегчением перевела дух — слава Богу, Петров не решился проводить свои рискованные эксперименты. Не успели, мы, однако, как следует отойти от стремного места, как Петров извлек из карманов несколько не предъявленных к оплате предметов — пачку чая и еще какую-то ерунду.
— Но зачем? — продолжала не понимать я. — Мы же могли заплатить — и за этот чай, и за все. У меня есть деньги.
— Из принципа, — лаконично отрезал Петров.
Пока я искала довод для продолжения диспута, здравомыслящая (как мне казалось) Марта вытащила из кармана еще один чай. Дальнейшее обсуждение стало излишним. (Эбби Хоффману посвящается.)
...К ночи на дачу набилась невиданная толпа гостей. На кухне шло интенсивное приготовление хавки — в дело шло все, что только годилось в пищу. Купер вызвался резать салат. Раскромсав кочан капусты и нашинковав что-то еще, попавшееся под руку, он схватился за пучок редиски, неведомо как материализовавшийся на столе.
— Это, я думаю, тоже можно порезать... — произнес он в воздух, не ожидая возражений.
— Нет! — завопила я, руководствуясь безотчетным рефлексом.
— Почему? — в голосе чувствовалось чрезвычайное удивление.
В самом деле — почему? Я лихорадочно искала объяснения. Редиску к капусте?.. У меня дома смешение подобных продуктов было бы приравнено к мировому катаклизму... Стоп!
— Почему? — настойчиво добивался Купер.
Я представила себя лицо своей матушки. “Как можно...”
— Можно, — не без внутреннего сопротивления сдалась я наконец. И уже с облегчением:
— Даже нужно...
Среди прибывших выделялась миниатюрная барышня в шляпе колокольчиком с эскортом из двух молчаливых мэнов — как оказалось, тертый стритовый калач по прозванию Дюймовочка.
— Я — сексуальный революционер, — сходу объявила она. — Врубаю пионеров в идею сексуальной революции.
Архитектурные молодцы смущенно зарделись.
Услышав про наше посещение Березы, Дюймовочка радостно поведала, как на днях обвела Радугина вокруг пальца.
— Ну, приводят меня и прямо к нему. “А, — говорит, — Дюймовочка, все тусуешься, не работаешь, ну все, буду тебя оформлять — сперва на сутки за тунеядство, а там и вовсе хана тебе.” А я ему: “Да что вы, товарищ Радугин, мне же совсем не долго осталось, вот потусуюсь еще полгода, и все — я же беременная, замуж выхожу”. “Правда что ли?” А я ему: “Ну да, все, новую жизнь начну, все по-другому будет”. Он обрадовался, дурак, говорит: “Ну, раз так, я тебя отпускаю, и больше мы тебя винтить не будем. Догуливай, так и быть, но чтоб потом уже мы тебя на стриту не видали”. “Нет, — говорю, — не увидите”, — а сама угораю. Я же ни фига не беременная, а меня целых полгода винтить не будут!”
Было прохладно. Фагот пошукал по сусекам, раздобыл дрова. Заворковала печка. Любуясь отсветами пламени, народ расселся на полу тесной кухни. В углу шла какая-то деловитая возня, в результате каковой явился красноватый огонек, медленно поплывший от одного умолкавшего рта к другому.
— Будешь? — потянулась ко мне из темноты чья-то рука.
Одним из существенных недостатков моей натуры является гипертрофированное чувство долга. Нелегко признаваться, но ответственность за будущее потомство заставила меня отказаться от моего первого в жизни косяка. Я проводила его печальным взглядом и, сердясь на себя и весь окружающий мир, вышла на крыльцо.
В сыром саду было свежо и тихо. Где-то над головой, невидимые за обложными облаками, сияли звезды. Я вышла за калитку и прогулялась по спящей улице. Вдали лаяли собаки. Кое-где в окошках мерцали огни. Мир вокруг нас делал вид, что ничего не случилось — будто здесь, прямо под боком, не происходило ничего необыкновенного. Будто здесь и теперь не творилось великое преобразование мира горсткой отчаянных идеалистов, врубившихся доказывать на собственной шкуре, что переживание полноты бытия зависит только от тебя самого.
Сонный поселок мирно дрейфовал в моросящем дожде — а мы уплывали от него в своей лодке и были уверены, что нас теперь ничто не разлучит.
На обратном пути я столкнулась с Дюймовочкой, которая пилила куда-то по саду со стеклянной банкой в руках.
— Вот, лечусь, — без тени смущения пояснила она, указывая на емкость, полную какой-то темной жидкости. — Триппер... — хмыкнула — и продолжила свой путь в темноту.
Утром я обнаружила ее в кухне на груде одеял — два спящих мэна по бокам служили достойным обрамлением картины.
VITA NOVA
Тот, кто пробовал, знает — синхронизировать реальность можно (и нужно), но воздействие будет кратким, хотя и сильным — затем наступает неизбежный отходняк.
Свободные птички не сидят на месте, не вьют гнезд и даже не образуют жесткие стаи. Тем более, что суровый климат дает слишком мало возможностей для отвязных полетов. В колледжах закончилась практика, и последние из не вполне свободных птичек разбились на мелкие стайки и отправились пытать судьбу на трассах, ведущих к теплым и прохладным морям. И только бедная Серая Шейка провожала завистливым взглядом беспечных братьев и сестер — крылышко у нее, как хорошо известно из канонического текста, погрызла проклятая лиса.
Со свойственным ему благородством, Фагот покинул меня, отбыв с веселой компанией кататься по Прибалтике с заездом в Киев и Одессу, а я осталась проливать горькие слезы в жалкой крепости, со всех сторон осажденной врагом. И хотя потом мы еще какое-то время прожили вместе (и даже — накануне рождения ребенка — позорно капитулировали, осквернив ксивы штампом о заключении брака), наши общие дни были сочтены.
Мы опять жили в ненавистной квартире бок о бок со всей сумасшедшей родней, и Кролик (явившийся на свет на гребне мощной волны промедола, которым на удивление гуманная медицина решилась поддержать мой подсевший на измену дух, отчего я проявила к свершившемуся событию чрезвычайно малый интерес, впервые отъехав в сады других возможностей, что сильно не понравилось акушеркам) стал лишь катализатором разрыва.
Моя жизнь переменилась сразу — и навсегда. Во-первых, я наконец узнала, что есть любовь — чувство, лишенное эгоизма и напрочь бескорыстное. Во-вторых, я поняла, что такое зависимость — абсолютно добровольная и в то же время абсолютно неизбежная.
Вообще, я довольно много поняла, оставшись один на один с существом, которое претендовало на меня целиком и полностью и было при том совершенно беспомощным, беспредельно доверчивым ко мне и ко всему окружающему миру — и совершенно живым и настоящим. Мне было двадцать лет, мне самой так много всего хотелось — и все это было невозможно. Я стояла один на один с целым светом и отчетливо понимала, что нет такого плеча, на которое можно было бы опереться. Я сама теперь должна была на неопределенный срок стать таким плечом, спиной, головой, руками и ногами для вверенной мне мелочи, которой было решительно наплевать на все мои заморочки.
Это во всех отношениях полезный опыт (необходимая школа смирения) — во всяком случае, для личности определенного типа. Только все время очень хочется спать...
Как бы то ни было, я осталась одна в стане врага без всякой помощи и поддержки, разлученная с братьями, которые, как мне думалось (я была неправа), сразу же выкинули меня из головы, стоило лишь выпасть из поля непосредственного зрения. (Потом я узнала, что именно так мои братья всегда и поступают — только что был тут, миг — и ищи ветра в поле. Умка через много лет отметит то же самое — “Проходит зима и проходит лето, я все сижу, а их все нету и нету. А я сижу и жду. О-о-о-о, люди, порожденье крокодилов!” И давно хочу спросить, кого же она цитирует — Шиллера или все-таки Островского? Но все как-то недосуг.)
Вообще говоря, волосатые не без оснований аттестуют себя Flower Children. Во всяком случае, восприятие у них (тип миросозерцания, — сказал бы профессор философии) в высшей степени childish. Причем во многих чертах скорее соответствует возрасту до пяти лет. Они бывают весьма отзывчивы и дружелюбны и даже демонстрируют несомненные признаки личной приязни, покуда объект находится в буквально перед глазами. Но стоит удалить его на незначительное время/расстояние, и они уже не способны удержать его в памяти, тем паче сосредоточить внимание на отсутствующем. Это, разумеется, не очень приятно, если лично выступаешь в роли забытого, но что поделать! — недостатки есть продолжение достоинств, и в обратку. Зато волосатые не склонны нудно заморачиваться на пустяках, с глаз долой — из сердца вон. Они живут (теоретически, конечно) одним текущим мгновением, зато переживают его во всей недоступной филистеру полноте...
...Однажды, после года тоски и одиночества, когда я рассекала с коляской по поселку Сокол, всесильная рука Провидения послала мне навстречу приметную парочку. Пудель, который жил по соседству, временами скрашивал мне унылые дни, милосердно соглашаясь совмещать выгулы своей собаки с моими вывозами коляски. Теперь он перебросился со мной парой слов и похилял дальше с неизвестным мэном, на которого я отчего-то не обратила никакого внимания.
Знать бы где упасть, так соломки подостлать... Я-то не обратила, зато обратил мэн, и на пару ближайших месяцев стал навязчивым кошмаром. Уже на следующий день под каким-то заковыристым предлогом он напросился в гости, и в дальнейшем ни выманить, ни выгнать, ни вообще каким угодно способом изъять его из пространства, где находилась в тот момент я сама, было просто невозможно.
Гоша был женат и обладал ребенком, который приходился ровесником моему собственному. Ни то, ни другое обстоятельство не породило ни тени колебаний в его целеустремленной натуре. Такую настойчивость я наблюдала в жизни еще только раз, когда несколько лет спустя отбивала атаки (как выяснилось, безрезультатно) одного хиппующего кобеля, положившего глаз на мою, в первый раз течную, Люську (полное имя — Lusy in the Sky with Diamond. Как совсем недавно заметил один человек, еще не перешагнувший порог этого текста, но уже переминающийся у самого входа: помнишь, их же было две сестры, одну назвали Доза, а другую LSD. Смотри ты, как совпало!).
Сначала Гоша просто приезжал каждый день после работы (он был фотограф, но лично мне не пришлось видеть его с фотоаппаратом. Возможно, он просто хотел всегда иметь руки свободными — чтобы хватать ими меня, что страшно меня нервировало) и вечером все-таки отбывал домой, откуда сразу же начинал звонить, не давая прекратить изнурительное общение угрозами лечь под трамвай. Вскоре, однако, он пораскинул умом и догадался о нерациональности подобной организации быта, после чего уже безвылазно поселился в моей комнате, положив вести осаду круглосуточно. Даже перестал ходить на работу, зато таскался со мной всюду, куда бы я ни пошла — в булочную, на прогулку, в гости.
Смешно, но я-то на работу продолжала ходить, академ у меня кончился, кормить задарма меня никто не собирался, так что я забила на Универ и пошла работать в ясли — не могла же я бросить Кролика на съедение работникам детских учреждений. (Кстати, если кто еще не знает: там подвизаются натуральные садисты, которые улыбаются доверчивым родителям и изображают заботливых педагогов, а потом избивают малюток палками по головам и хлещут мокрым простынями... Не проявляйте малодушия: наши дети должны расти свободными.) Я, значит, уходила, а он преспокойно оставался у меня дома.
У Гоши, собственно, была статья — честная недвусмысленная шиза, то есть четверка. В случае Гоши дело, однако, осложнялось тем, что крыша у него реально не стояла на месте. Не берусь судить, что здесь причина, а что следствие, но он очень плотно сидел на колесах. Он уже так долго служил в наездниках радужной колесницы, что никакой рассудок (если бы он был у него от природы) все равно бы не выдержал. Но возможно, что сумасшествие и было его естественным состоянием, а колеса требовались затем, чтобы это состояние гармонизировать. Как бы там ни было, он существовал в каком-то своем солипсическом мире, временами чему-то тихо радуясь или погружаясь в мрачное оцепенение, и единственным объектом из мира реальности, который ему хотелось перетащить в область своих глюков, была, увы, я. А я ничем не могла ему помочь.
Кстати, это было первый человек из тех, что я видела в жизни, который практически ничего не ел. Что не помешало ему, однако, в один прекрасный день в состоянии полной обдолбанности выползти на кухню — он не смог даже пройти в дверной проем, раз пять тыкался в притолоку — то в правую, то в левую, мне пришлось самой спешно задать ему направление, — чтобы строго потребовать груш у моей онемевшей от изумления мамаши (дело было в апреле, а в СССР этот фрукт существовал лишь в августе и сентябре, впрочем, ее поразило отнюдь не сезонное несоответствие, а именно сам Гоша — и она потом долго пытала меня, почему мои гости находится в таком состоянии).
Я относилась к нему как к брату — и потому, как ни тяжело мне было его ежесекундное присутствие и какие бы истерики ни учиняли по поводу его пребывания под нашим общим кровом мои добрые перента, я не могла сказать: отвали Гоша, тебя не нужно.
Хуже всего, что по ночам его пробивало на домогательства. Я и так-то не фига не высыпалась, а тут еще объясняй ночь напролет, пачэму нэ хочешь... Пусть тот, кто без греха, бросит в меня камень! Ну все могу, кроме фрилава. Не лежит душа, хоть ты тресни...
Кончилось дело тем, что молоденькая и довольно бессмысленная мочалка, имевшая законное право на Гошино вожделение, тогда как он беззаконно (впрочем, и безуспешно) пытался истратить его на стороне, явочным порядком тоже поселилась у меня в комнате, отчего ситуация приобрела характер окончательной шизы. Ночной пасьянс у нас раскладывался так: Гоша с Мариной, отнюдь не терявшей, надо отдать ей должное, ни душевной бодрости, ни благодушия, долго препирались между собой, в чем я демонстративно не принимала никакого участия, затем волевым усилием Гоша загонял свою жену на гостевую кушетку, я укладывалась спать на собственный диван, а следом — в темноте — под язвительные комментарии Марины — в мое гнездо коршуном бросался Гоша, и начиналась уже наши с ним изнурительные препирательства на известную тему, сопровождаемые актами бесконечного sexual harassment.
Моя работа начиналась в 7 утра. У меня был совсем маленький ребенок. Не было случая, чтобы я легла спать раньше двух часов ночи, и не было случая, чтобы хотя бы эти пять часов мне дали проспать спокойно. И я, буквально падая с ног от усталости, терпела этот бред ради “всеобщего мира и любви”. Непостижимо!..